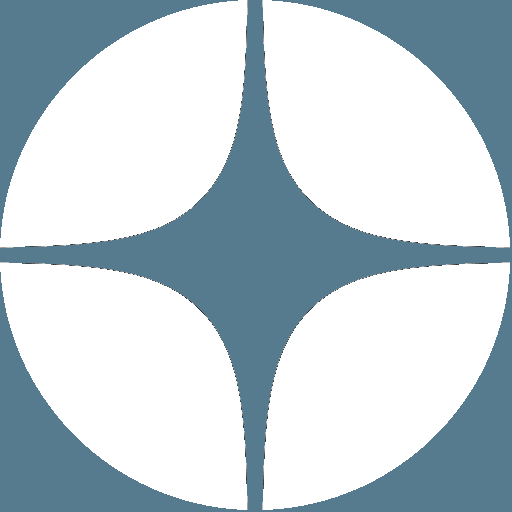Инициируемый управляемый кризис и психотерапия
Диалогово-феноменологическая психотерапия представлена автором как психотерапия управляемого инициируемого кризиса. Особое внимание уделяется анализу инструментария, используемого в терапии управляемого кризиса. Постулируется важность соблюдения баланса поддержки и фрустрации в рамках комплексных интервенций по инициации кризиса и сопровождению процесса переживания. Оба терапевтических вектора рассматриваются в качестве комплементарных составляющих целостной интервенции в терапии управляемого инициируемого кризиса.
Ключевые слова: управляемый инициируемый кризис, поддержка, фрустрация, self, переживание.
Фундаментальным принципом гештальт-подхода, в методологической перспективе которого развивается диалоговая модель психотерапии, является принцип творческого приспособления, который предполагает свободный выбор из имеющихся или создание новых способов организации контакта в зависимости от динамики текущего контекста поля [1]. Так или иначе, в течение своей жизни каждый человек периодически оказывается в контексте поля, структурированного факторами, выходящими за пределы его актуальных адаптационных возможностей. В результате формируется острая ситуация высокой интенсивности. В случае, если процесс творческого приспособления оказывается по каким-либо причинам блокированным, то контекст поля преобразуется в хроническую ситуацию низкой интенсивности, которая в неизменном виде может существовать в течение довольно длительного времени. Собственно говоря, именно такая ситуация и служит причиной (не поводом) для обращения за психотерапевтической помощью.
Базовой ценностью диалоговой модели психотерапии выступает переживание, которое представляет собой комплексный творческий процесс создания и ассимиляции феноменов поля, при котором все его составляющие – эмоциональные, поведенческие, когнитивные и др. – подчиняются свободной динамике творческого приспособления [2]. Именно свободный процесс переживания лежит в основе здорового функционирования self. Психологические же нарушения, которые служат поводом обращения к психотерапевту, являются следствием блокирования или деформации процесса переживания. Причем важно отметить, что созданная посредством блокирования естественного течения процесса переживания ситуация в актуальной феноменологии поля не способствует мотивации возобновления переживания. В связи с этим в процессе диалоговой психотерапии, сфокусированной на переживании, возникает необходимость в трансформации феноменологического поля до ситуации, в которой процесс переживания становится необходимым. Эти размышления о сущности психотерапевтического процесса и лежат в основе постулирования диалоговой модели психотерапии как терапии инициируемых управляемых кризисов.
Значение управляемого кризиса для психотерапии
Ранее уже отмечалось, что гештальт-терапию следует рассматривать как терапию управляемых кризисов. Что это значит? Любой симптом, с которым мы встречаемся в процессе терапии, является, как известно, следствием трансформации острой ситуации высокой интенсивности в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Такая трансформация происходит ввиду отсутствия и/или неготовности клиента в какой-то ситуации его жизни следовать течению динамики поля. Такая неготовность может оказаться следствием, например, обращения с интенсивным психическим возбуждением, которое было потрачено на совладание с острой ситуацией высокой интенсивности, и значительная часть которого оказалась «похороненной» в феноменологическом поле, определяющем эту ситуацию. Как следствие, контекст поля фиксируется (естественно, вместе с ответом на него), формируя хроническую ситуацию низкой интенсивности. Процесс переживания замораживается, что тоже влияет на фиксацию ситуации, проявляющейся теперь в виде симптома. Именно таким образом выглядит исходная ситуация начала терапевтического процесса.
Описанная динамика образования симптомов и психологических нарушений с необходимостью определяет механизмы терапевтического процесса. Терапевтический акцент при этом ставится на восстановлении чувствительности к динамике изменяющегося поля и далее – на обеспечении поддержки процесса переживания. Однако осознание необходимости в восстановлении переживания у клиента появляется лишь в тот момент, когда он уже не может игнорировать факт изменения контекста поля, требующий теперь уже некоторого творчества в адаптации. Для этого клиенту необходимо осознать значительные рассогласования между актуальной ситуацией поля и используемыми в процессе адаптации к ней способами организации контакта. Невозможность найти адекватный ситуации способ приспособления формирует более или менее выраженный кризис как «резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние или острое затруднение с чем-либо» [3; С. 593]. Этот кризис инициирует динамический терапевтический процесс, в основании которого, повторюсь, лежит переживание.
Таким образом, зачастую толчком к значимой терапевтической динамике выступает кризис. Поэтому одной из задач психотерапии является в некотором смысле актуализация кризисов по ходу терапии с тем, чтобы поддержать процесс переживания, блокированный хронической ситуацией низкой интенсивности. Подтверждение тому – слова основателей гештальттерапии: «При столкновении с чрезвычайной ситуацией пациент больше не пытается избежать или заморозить ее, но использует свою смелость и осторожность, и активно реализует поведение, которое становится доминантным. Он сам создает чрезвычайную ситуацию; она больше не является чем-то, что переполняет и поглощает его, появляясь непонятно откуда. И толерантность к тревоге – это то же самое, что и способность к формированию новой фигуры» [1; С.99]. И немного далее, рассматривая практические следствия этого тезиса для психотерапии, Ф.Перлз и П.Гудмен отмечают: «Если невротическое состояние – ответная реакция на несуществующую хроническую чрезвычайную ситуацию низкой интенсивности, которая характеризуется средним тонусом, унынием и постоянной настороженностью, тогда целью является концентрация на существующей чрезвычайной ситуации высокой интенсивности, с которой пациент может фактически справиться и использовать это для развития» [1; С.99]. Думаю, что философской иллюстрацией к описанному механизму могут послужить слова М.Хайдеггера: «Самое большее, что мы можем сделать для человека, – сделать его тревожным» [4; С. 34]. Конечно, такое положение вещей, иногда оказывается болезненным для человека, поскольку существовавший до появления альтернативы в виде необходимости переживания симптом, «спасал» человека от боли и других невыносимых чувств, блокируя и «хороня» их в хронически замороженном виде. Поэтому психотерапия не всегда является процессом, проходящим на фоне удовольствия. Особенно справедливо сказанное для клиентов, страдающих психосоматическими заболеваниями и посттравматическим стрессовым расстройством. В этом случае в процессе психотерапии терапевту и клиенту неизбежно придется столкнуться с интенсивными, почти непереносимыми, феноменами.
О., мужчина 39 лет, обратился за психологической помощью по поводу возникновения беспокоящих его симптомов психосоматического характера. 2 месяца назад он столкнулся с «перебоями в работе сердца», проявляющимися в тахикардии, головокружении, скачках давления. В течение этого времени О. прошел несколько тщательных обследований на предмет поиска у него кардиологической или сосудистой патологии. Однако все медицинские обследования закончились безрезультатно – врачи констатировали отсутствие какой бы то ни было патологии, О. был, с точки зрения соматической медицины, практически здоровым человеком. Тем не менее, описанные симптомы продолжали беспокоить О., и заведующий отделением клиники, где О. проходил последнее обследование, направил его ко мне.
На момент обращения за психотерапией к симптомам О. присоединились также выраженный страх умереть от остановки сердца и невозможность вообще покидать пределы своего дома. На прием его доставляли родственники. Описываемая им феноменология кардиофобии и агорафобии практически парализовала его профессиональную жизнь – О. был довольно успешным бизнесменом, имеющим, кроме того, множество ближайших профессиональных планов. Разумеется, что в фокусе внимания терапевтического запроса О. разместил жалобы на мучающую его симптоматику, причем за пределы разговора о ней О. не выходил в течение нескольких первых сессий. Когда О. смог отвлечься на время от соматических жалоб, мне удалось поинтересоваться особенностями построения им отношений с окружающими его людьми. Этот разговор вызывал некоторые затруднения у О., поскольку он не видел никакого практического резона говорить о чем-либо, не связанном с беспокоящей его симптоматикой. О. внешне выглядел очень маскулинным, несколько отстраненным и неэмоциональным человеком, речь его была краткая и отрывистая. Казалось, что никакие события не способны тронуть его сердце. По словам О., он всегда жил и воспитывался в ситуациях, которые предполагали, что «переживать и расстраиваться – это не по-мужски». Этакий «стойкий оловянный солдатик». Такое положение вещей и, собственно, сам рассказ О. вызвали во мне грусть и даже некоторую жалость к О. – не иметь возможности расслабиться в течение более чем 30 лет представлялось мне несправедливым.
Немаловажным в рассказе О. о своих отношениях с близкими людьми был следующий факт – самым близким для него человеком, несмотря на отсутствие теплоты в контакте, был его отец. Это был очень важный и авторитетный для О. человек, «многому научил» его и «хорошо воспитал». Но недавно отец умер от внезапного сердечного приступа. И случилось это примерно за 2 недели до возникновения первого «сердечного» приступа у О. (удивительное совпадение?!). Я спросил О., каким образом он переживал смерть отца, на что он надолго задумался и ответил: «Переживал. Тяжело было». Я поинтересовался, была ли у него возможность делиться с кем-нибудь своими переживаниями, связанными со смертью отца, на что он ответил отрицательно и сказал, что не видел в этом никакого смысла – «мало того, что самому плохо, так еще заставлять страдать других». Я выразил свою грусть о том, что «должно быть непросто оставаться одиноким со своей болью». В этот момент глаза О. наполнились слезами, и он стал говорить о том, что его отец «был очень хороший человек». Я предложил О. поделиться, если он хочет, со мной своими переживаниями, с которым он до сих пор оставался одиноким. Не стоит и говорить, что эта идея вызвала интенсивный страх и недоумение О. При этом он продолжал плакать, по-прежнему находясь вне контакта со мной. Мое сердце наполнилось болью, я сказал, что очень сочувствую и соболезную ему. Он посмотрел впервые на меня внимательно и довольно длительное время. Я сказал ему, что для меня было бы важным, если бы О. смог говорить о своих переживаниях, не оставаясь один на один со своей болью, а воспользовавшись моим присутствием. О., кажется, был потрясен тем, что его чувства могут быть кому-то еще интересны и важны. Собственно говоря, они (чувства) чаще всего были неинтересны и ему самому, он рассматривал эмоциональную часть своей жизни как досадный атавизм, который пока еще, к сожалению, не атрофировался за ненадобностью. О. сказал, что ему было бы важно поговорить о своих чувствах с кем-либо, и начал рассказывать мне довольно подробно о переживаниях первых дней своего горя. Вначале ему не очень удавалось «отдаваться своим чувствам», но со временем он смог научиться размещать их в нашем контакте. Через некоторое время он позволил себе поговорить о своих чувствах с женой, что оказалось для нее «полной неожиданностью». Тем не менее, жена смогла поддержать О. в этом процессе. Спустя довольно непродолжительное время О. приехал ко мне самостоятельно, сказав, что его страх стал значительно меньше. Приступы кардиофобии стали значительно реже. В настоящее время терапии О. экспериментирует с восстановлением своей способности осознавать и переживать чувства, что оказалось для него очень интересным, увлекательным и ресурсным.
Итак, условием продуктивной психотерапии зачастую выступает происходящая в ее процессе актуализация кризисов, которая поддерживается размещением появляющихся в терапевтическом процессе феноменов на границе-контакте. Озвученный терапевтом феномен может способствовать рождению в контакте другого феномена, который также размещается в процессе переживания. Терапевтическая ситуация переживания в свою очередь инициирует динамику появляющихся в контакте все новых феноменов, каждый из которых, напомню, развивается до формы и степени, определяемыми текущей ситуацией контакта. Рассматривая диалоговую психотерапию как терапию управляемого кризиса, следует отметить, что текущее состояние терапии определяется наличием специфического дизайна актуализированных на этом этапе кризисов.
Опираясь на терапевтическую идеологию, в основе которой лежат представления о терапии как процессе управляемого кризиса, необходимо помнить о некоторых особенностях этого процесса. Во-первых, в продуктивном процессе терапии управляемого инициируемого кризиса важно адекватно распределять власть. Если за терапию отвечает терапевт (например, чрезмерной заботой), то кризиса не наступает, следовательно, невозможны изменения. Кроме того, терапевтические интервенции по разрешению кризиса до его пика являются способом избегания его переживания. С другой стороны, если власть в процессе терапии смещается в сторону клиента, то он лишается возможности поддержки со стороны поля и необходимых для разрешения кризиса ресурсов, имеющихся вовне. И в том, и другом случае терапевтический процесс либо замедляется, либо блокируется вовсе. Осознание такой ситуации и выдвигает методологическое требование о децентрализации власти, о котором уже упоминалось ранее [5]. Во-вторых, в терапевтическом процессе управляемого инициируемого кризиса тактически следует опираться на категорию зоны ближайшего развития. Это означает, что объем и степень новизны новообразований, на который одномоментно ориентируется терапевтический процесс, должен оказаться трудным, но принципиально доступным для клиента. С одной стороны, отсутствие необходимого напряжения для разрешения возникшей ситуации поля, с другой стороны, недоступность для переживания появившихся в контакте феноменов в равной степени могут оказаться останавливающими и замораживающими терапевтический процесс.
Повторюсь, степень трудности инициируемого кризиса должна быть оптимальной. Однако, исходя из положений феноменологического подхода, очевидна абсурдность возможности контролировать степень инициируемого в терапии кризиса. Выраженность новых требований терапевтического поля, создающих кризис, является фактором, принципиально непредсказуемым, особенно при работе с клиентами, чьи психологические затруднения достаточно тяжелы. Поэтому в диалоговой модели гештальттерапии место контроля терапевтических интервенций, инициирующих кризис, занимает отслеживание в поле терапии баланса поддержки и фрустрации. Рассматривая возникающую порой в процессе терапии необходимость «повышения хронической чрезвычайной ситуации низкого уровня до безопасной чрезвычайной ситуации высокого уровня напряжения, в которой внимание направляется тревогой и которая, однако, может быть контролируема активным пациентом» [1; С.100], Ф.Перлз и П.Гудмен пишут: «Техническая сторона проблемы в том (а), чтобы повышать напряжение под правильным руководством, и (б), чтобы сохранить возможность контроля над ситуацией, однако, не контролировать ее» [1; С.100].
Поддержка и фрустрация как инструменты терапии управляемого кризиса
Размышляя о поддержке и фрустрации в психотерапии, а также об их сочетании в терапевтическом процессе, следует вначале определить значения этих понятий, применяемых в психотерапевтическом контексте. Так, например, часто можно услышать, что такой-то терапевт «очень поддерживающий», а другой «постоянно фрустрирует своих клиентов». Такие фразы звучат так, словно можно поддерживать или фрустрировать человека, а также, что поддержка и фрустрация выступают некоторыми личными и/или профессиональными чертами терапевта. Однако, строго говоря, термины поддержка и фрустрация в гештальт-парадигме относятся не к человеку (невозможно поддержать человека, если он, разумеется, не падает, так же, как и невозможно его фрустрировать), а к способам организации контакта в поле, направленным на удовлетворение какой-либо потребности. Итак, фрустрация применительно к психотерапевтическому контексту имеет отношение к интервенции, блокирующей привычный, зачастую невротический способ удовлетворения своих потребностей клиентом. Поддержка же наоборот направлена на поддержание некоторых способов организации контакта и удовлетворения потребностей, которые соответствуют принципу творческого приспособления. Итак, в терапии инициируемого управляемого кризиса задача заключается в поддержании творческих способов его разрешения и фрустрации хронических паттернов, блокирующих кризис и соответствующий ему процесс переживания. Более того, еще одно важное замечание к рассматриваемой проблеме заключается в том, что зачастую каждая терапевтическая интервенция содержит в себе оба тактических компонента – и поддержку, и фрустрацию: поддерживая творческий процесс переживания, терапевт тем самым, в рамках все той же интервенции, подвергает фрустрации хронические паттерны, блокирующие его.
П., молодая девушка 25 лет, работающая государственным служащим, не замужем, детей нет. Обратилась с жалобами на конфликты, которые возникают у нее на работе и с близкими людьми. Несмотря на то, что она нуждалась в заботе, внимании, теплоте, в жизни она ощущала выраженный их дефицит. Бросающимся в глаза был физический дефект П. в виде ампутированной руки, о котором она, однако, ничего не говорила. На первой встрече П. выглядела немного испуганной, встревоженной. По ходу разговора я поинтересовался тем, что произошло с рукой, однако, П. довольно резко бросила мне, что «не хочет и не собирается об этом говорить». Я был удивлен столь резким ответом на мое любопытство, но с уважением относясь к границам П., предпочел не вторгаться в них преждевременно. Тем не менее, подобная реакция сохранила и даже усилила мое любопытство к истории, лежащей в основе.
Отношения П. с окружающими развивались довольно типичным образом – до тех пор, пока они оставались формальными и дистантными, П. не испытывала никакой тревоги, однако, с течением времени в результате сближения с кем-либо тревога П. нарастала. Как правило, вскоре отношения завершались каким-либо скандалом или значительно обострялись в результате какого-либо конфликта. Будучи образованным, начитанным и эрудированным в сфере психологии человеком, П. предполагала наличие какого-то своего вклада в этот процесс, в чем, собственно говоря, и хотела разобраться в процессе терапии.
По ходу терапии мы обсуждали с П. множество аспектов процесса построения ею отношений с другими людьми. Но неизменно табуированной оказывалась тема ее инвалидности. Послание П. как бы звучало следующим образом: «Говори о чем угодно, только не спрашивай меня об ампутированной руке!». Подобное положение вещей вызывало у меня смесь любопытства, жалости к П., а также нарастающего раздражения в ее адрес, связанного с тем, что такое ее послание лишало меня свободы в отношениях с ней. На очередной сессии я решился сообщить ей об этом, что вызвало у нее приступ гнева. Она кричала, что я «вторгаюсь в ее личную жизнь самым вероломным образом». Я почувствовал себя отверженным и растерянным и даже немного испугался реакции такой силы и интенсивности. Тем не менее, я решил не оставлять этой темы, блокирующей наши отношения и не игнорировать произошедшее. Я разместил описанные мною переживания в контакте с П., а также желание оставаться в отношениях с ней и все же говорить об этой теме, несмотря на столь сильную ее негативную реакцию. П. со слезами в глазах попросила не трогать ее. В этот момент я испытал некоторый страх в ответ на ее слова и сказал, что мне бы не хотелось игнорировать происходящее. Продолжив, я сказал, что полагаю, у нее есть все основания игнорировать свои переживания, связанные с ампутированной рукой, но, похоже, такое положение вещей оказывает значительное негативное влияние ее жизнь. П. сказала, что она такой же человек, как и все остальные. Ее реакция несколько удивила меня – образ ее неполноценности никогда не появлялся в нашем контакте. Более того, слова ее, казалось бы, совершенно очевидные, звучали очень нервно, в фоне интенсивной тревоги, и были похожи скорее на содержание аутотренинга или самовнушения, нежели утверждения, в которое П. верит. Я попросил П. еще раз повторить эти слова, сказав их лично мне. Начав говорить, П. расплакалась, некоторое время ничего не говорила в рыданиях, а после сквозь слезы прокричала: «Я ничтожество! Я инвалид! Я никому не нужна!» Эти слова «пронзили меня насквозь» острой болью, которая застряла большим комом в горле. Я сказал об этом П. и попросил ее не останавливаться в этом процессе появившегося переживания и сохранять при этом контакт со мной. Сквозь слезы П. начала взахлеб говорить о своих чувствах и мыслях, которые были связаны с ее инвалидностью, а также о том, что окружающие «приучили ее не говорить о своем дефекте». Как выяснилось, окружающими были «родители» П., которые воспитали ее в духе «терпения и силы духа», что подразумевало под собой игнорирование не только ее физического дефекта, но и любых других ее слабостей. Я размышлял о том, что таким образом можно лишь помочь человеку стать инвалидом, а не поддержать его в адаптации к существующему факту реальности. Тем более, что деформированный процесс переживания П. по иронии судьбы формировал представления у нее о себе как инвалиде. Во время этих размышлений я переживал жалость и сочувствие к П., что и попытался разместить в отношениях с ней. В ответ столкнулся с негативной реакцией в свой адрес и требованием «не унижать своей жалостью». Я сказал, что не могу контролировать свои переживания и хочу быть лишь более или менее правдивым в отношениях, и я слишком уважаю П., чтобы позволить себе лицемерие с ней. П., кажется, удивилась моим словам и выглядела растерянной. После нескольких минут молчания она произнесла: «Какое тебе дело до меня?!» Теперь пришло время удивиться мне. Я сказал, что воспринимаю наши терапевтические отношения не как игру в терапию, а как пространство, хоть и созданное специально для терапевтических целей, но где я вкладываюсь всем своим сердцем и переживанием. А поскольку она – небезразличный для меня человек, поэтому и переживания ее для меня очень важны. П. сказала, что не помнит? чтобы кто-нибудь всерьез интересовался ее переживаниями по поводу ампутированной руки. Отвечая ей, я предположил, что, с таким отношением собственного игнорирования проблемы она вполне может проигнорировать и имеющийся к ней интерес окружающих людей. Да и не каждый человек в силу напуганности ее гневом будет рисковать, интересуясь этим. П. выглядела впечатленной. Далее некоторое время терапии было посвящено рассказу П. о ее переживании факта инвалидности. Я попросил П. оставаться в контакте со мной со своим переживанием и прислушиваться к возникающим в этом процессе желаниям. Минуту спустя П. сказала, что для нее чрезвычайно важным было встретиться с моим желанием заботиться о ней. И после этого произнесла: «Спасибо».
Описанная сессия оказалась переломной в процессе терапии П. Она инициировала собой прогресс в восстановлении П. свободы в отношениях с другими людьми, в результате чего у нее начались появляться близкие и длительные отношения. Через некоторое время она сообщила мне, что выходит замуж, за человека, который заботиться о ней и «понимает с полуслова». Возвращаясь к событиям, иллюстрированным данной виньеткой, стоит обратить внимание на то, что моя интервенция, помещающая в фокус внимания переживание П., относящееся к факту своего физического дефекта, одновременно содержала в себе аспекты и фрустрации, и поддержки. Фрустрация относилась к попыткам П. игнорировать необходимость отношения к этому факту, а поддержка имела отношение собственно к процессу переживания возникающих в этом процессе феноменов в качестве нового способа организации контакта. Более того, полагаю, что, поддерживая новые способы организации контакта клиентом, невозможно не фрустрировать прежние хронические self-паттерны.
Учитывая идеологию диалоговой модели терапии управляемого инициируемого кризиса, следует особо отметить роль баланса поддержки и фрустрации в терапевтическом процессе. Рассматриваемое соотношение в дизайне интервенций исходит из остроты и тяжести переживания инициируемого кризиса. Так, например, в случае, когда инициируемый терапией кризис, создаваемый интервенцией, несущей фрустрирующую наличествующие контактные паттерны нагрузку, переживается клиентом довольно трудно, функция ego нуждается в более интенсивной поддержке новых способов организации контакта, исходящих из интенции к творческому приспособлению, со стороны поля (терапевта). Иначе говоря, можно выдвинуть следующее правило, определяющее баланс поддержки и фрустрации: выраженность поддержки процесса создания новых способов организации контакта должна быть прямо пропорциональна степени фрустрации хронических self-паттернов, инициирующей управляемый кризис в терапии. Другими словами, чем значительнее и болезненнее кризис, тем больший объем поддержки self-процессу требуется со стороны терапевта. Верно также и обратное: чем больший объем поддержки со стороны поля обеспечивается хроническим невротическим self-паттернам, тем, соответственно, большая интенсивность их фрустрации в процессе терапии требуется для того, чтобы инициировать терапевтический управляемый кризис.
Разумеется, уровень баланса предпринимаемых терапевтических интервенций, определяет степень терапевтического риска. Думаю, что способность рисковать является чертой, определяющей в свою очередь терапевтический стиль терапевта. Одной полярностью при этом может выступать отказ от риска с сопутствующим зачастую этой ситуации отказом от переживания в терапии (как клиентом, так и терапевтом) интенсивных чувств, а также от осознания и удовлетворения глубоких репрессированных желаний. С другой стороны, чрезмерно провоцирующий, но не очень опытный терапевт, не учитывающий хрупкость рассматриваемого баланса интервенций, может оказаться в ситуации, потенциально чреватой возможностью вторичной травматизации клиента, а также возможностью получения собственной профессиональной травмы. В любом случае продуктивность, равно как и экологичность терапии, оказывается под угрозой. Тем не менее, я рассматриваю способность рисковать как одно из основных профессионально важных качеств терапевта. Фактором же, поддерживающим рассматриваемый баланс интервенций и, следовательно, экологичность психотерапии, при выраженной тенденции к риску у терапевта, думаю, выступает чувствительность последнего.
Автор: Погодин Игорь Александрович